Дарья Сиротинская: «Я все вокруг воспринимаю как текст»
В интервью BAND Дарья Сиротинская рассказала о писательском стиле, о том, почему язык перевода важнее языка оригинала, а также об одной из самых интересных мистификаций в литературе последнего времени.
Дарья Сиротинская — филолог, переводчик, литературный критик, кандидат филологических наук, доцент, мастер курса BAND «Живое слово».
Виолетта Андреева
Автор статьи

Поделиться
Продюсер креативных и образовательных проектов Band
— Расскажите, пожалуйста, о самом важном в себе?
— Самое главное во мне — это, наверное, то, что я все вокруг воспринимаю как текст. Ну, как бы фоном. Может быть, стоит сформулировать менее позерски: у меня, скажем, иногда получается так настраивать зрение и слух, чтобы события, люди, разговоры, всякие пустяки, солнечный свет, жук на подоконнике — все превращалось в слова. Такая как будто включается внутренняя расшифровка. Честно говоря, это очень интересно. Если так смотреть на вещи, в жизни практически не остается незначительного.
Дарья — автор переводов произведений более чем 15 англоязычных писателей. С переводом очерка Генри Джеймса «Конкорд» входила в короткий список премии Норы Галь (2022).

— Чем уникальна работа переводчика? Какими специфическими навыками он должен обладать?
— На одной из творческих встреч меня спросили, что для меня важнее — писательство или перевод. И отвечая на этот вопрос, я поняла, что писательство для меня тоже является некоторым переводческим жестом — мне хочется как бы перетолковать слова на языке мира, языке вещей — и превратить их в русские слова. Знаете, в Средние века была такая концепция, что язык вещей — это язык Бога, а весь мир, таким образом, — книга, невероятная такая Книжища на Божьем языке. Это созвучно тому, о чем я говорила выше. И получается, что мы все немножко переводчики. Как у Ахмадулиной: «во всем ловлю таинственные знаки». Нам всем приходится заниматься истолкованием этих знаков. Это, на мой взгляд, суть профессии переводчика — истолкование. Мы прежде всего должны понять текст — понять в широком смысле, то есть прочувствовать, прожить его, выстроить с ним личные отношения — и тогда уже браться за перевод. Ну и еще я за тех, кто считает, что язык перевода важнее языка оригинала. Это такая вечная битва двух переводческих лагерей, и то, какую сторону ты принимаешь, определяет потом всю твою переводческую судьбу.
Дарья — автор романа «Теорема тишины» (2024).

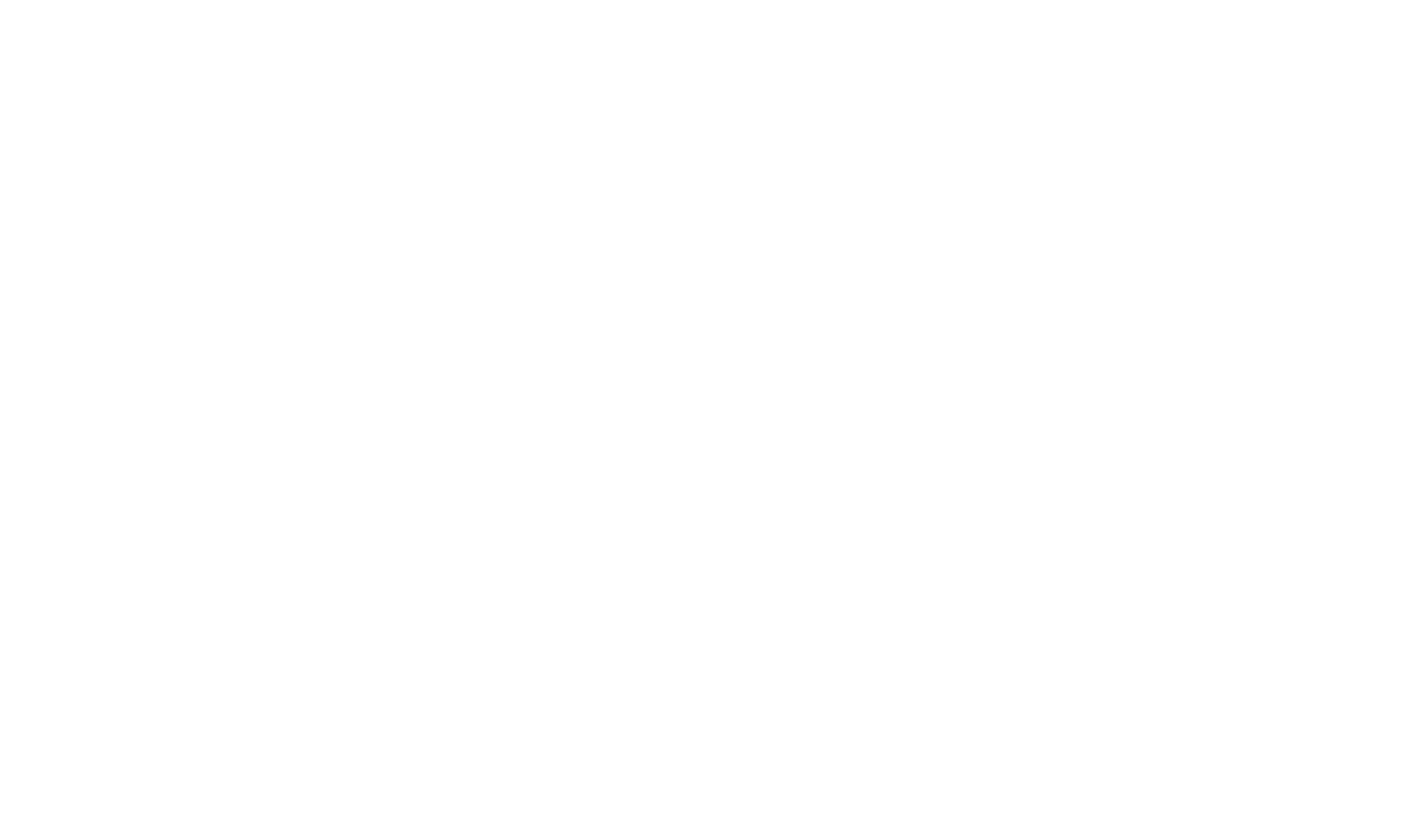
— Ваша книга — это целая история в литературном мире. Можете рассказать о ней и об истории ее продвижения?
— Моя книга — для пышности определенная при издании как роман — называется «Теорема тишины», и она пролежала у меня в ящике около 10 лет. В те времена, когда я ее писала, у меня была совсем другая жизнь, переводом я заниматься тогда только начинала — потихоньку, без учителей, сама с собой (получалось, само собой, чудовищно). Но потом меня всосал в себя журнал «Иностранная литература», оживил своим дыханием глиняную фигурку переводчика Сиротинской, критика Сиротинской.
И однажды главный редактор Александр Яковлевич Ливергант решил воплотить свою старинную идею литературной мистификации и напечатать в очередном номере мою «Теорему» под видом перевода с английского. Я сочинила послесловие от переводчика, расписала в подробностях биографию выдуманного ирландского поэта Александра Дэшли, приложила к публикации фотографию моего прадеда Льва Давидовича Сиротинского, которому надлежало во всей этой неприглядной истории сыграть его роль. В сам текст я при этом даже не заглянула — какой был, таким и отдала. Мне казалось, что он от меня нынешней уже слишком далеко. Потом, уже когда готовили книгу в «Издательстве Ивана Лимбаха», мне пришлось себя пересилить, редакторски пересмотреть текст, и я многое поправила, усушила, и тем самым вновь обрела ощущение собственного авторства. Поэтому если вдруг кому-то придет в голову безумная мысль сравнить две «Теоремы» — книжную и журнальную — то он увидит, что это два разных текста.
Тем не менее, журнальная версия вызвала определенный интерес, в том числе приходило в редакцию письмо от сотрудника ИМЛИ РАН, который провел расследование в истории ирландской литературы и, ни тени никакого Дэшли в ней не обнаружив, довольно-таки сильно возмутился. Этот случай я потом использовала в шоу с публичным саморазоблачением на одном из переводческих фестивалей в Переделкино. Мы с Александром Яковлевичем не остановились в своем авантюризме и послали «Теорему» нескольким издателям — тоже под видом перевода.
В «Издательстве Ивана Лимбаха» тоже «на раз» раскусили, что никакой это не перевод, но книжку сделать согласились. При этом был изобретен, на мой взгляд, совершенно новый издательский жанр: книга-мистификация. Если вы посмотрите на то, как устроено это издание, то поймете, что я имею в виду. На обложке — два имени, мое и Дэшли, то есть не совсем понятно, кто же все-таки автор. А после самого текста следует так называемое приложение, изучая которое, читатель постепенно приходит к разгадке. Я сначала сама не понимала всего этого замысла, а когда поняла, меня он страшно развеселил. Это ведь очень здорово, когда книга — не просто книга, а целый спектакль, спрятанный под обложкой. Очень люблю, когда ломаются законы измерений.
Книгу в издательстве продвигают очень заботливо, я съездила уже на несколько презентаций, повидала удивительные места, доехала до Иваново и Ижевска, Екатеринбурга и Архангельска, познакомилась с замечательными людьми, которые необыкновенно искренне относятся к литературе — здесь, в Москве, я встречаю такое отношение гораздо реже.
Дарья — постоянная ведущая рубрики «Книги вразнос: что у нас переводят и как» в журнале «Иностранная литература» (премия А.М. Зверева, 2019).

— У вас очень интересная работа. Расскажите нашим студентам о ней!
— Мое основное место работы — Институт перевода. Это грантовая организация, которая работает с переводчиками и издателями русской литературы во всем мире. При нашей поддержке переводы произведений классических и современных авторов выходят почти в 60 странах. Кроме того, мы занимаемся организацией российского участия в международных книжных ярмарках. Это означает, что мы обеспечиваем возведение и работу российского стенда, формируем делегацию из писателей и литературоведов, придумываем программу мероприятий, договариваемся с площадками, знакомим авторов с потенциальными издателями и переводчиками. Работа, разумеется, невероятно интересная.
Я побывала во множестве стран, в том числе таких экзотических, как Монголия, например. И у меня есть возможность существовать внутри современного литературного процесса. На какой-то стадии своего филологического образования я поняла, что жизнь литературоведа, ученого, уединившегося в библиотеке с гумилевскими «молчаливыми грузными томами» — жизнь, еще недавно очень привлекавшая — больше меня не манит. И работа в Институте перевода, безусловно, исчерпывающе отвечает потребности в соприкосновении с «живой» литературой. А какие мемуары наподобие катаевского «Алмазного венца» можно будет потом написать!
Дарья — автор серии биографических очерков об американских и английских писателях для «Литературной газеты». Член Гильдии «Мастера литературного перевода». Член редколлегии журнала «Иностранная литература», составитель специальных детских номеров «ИЛ».

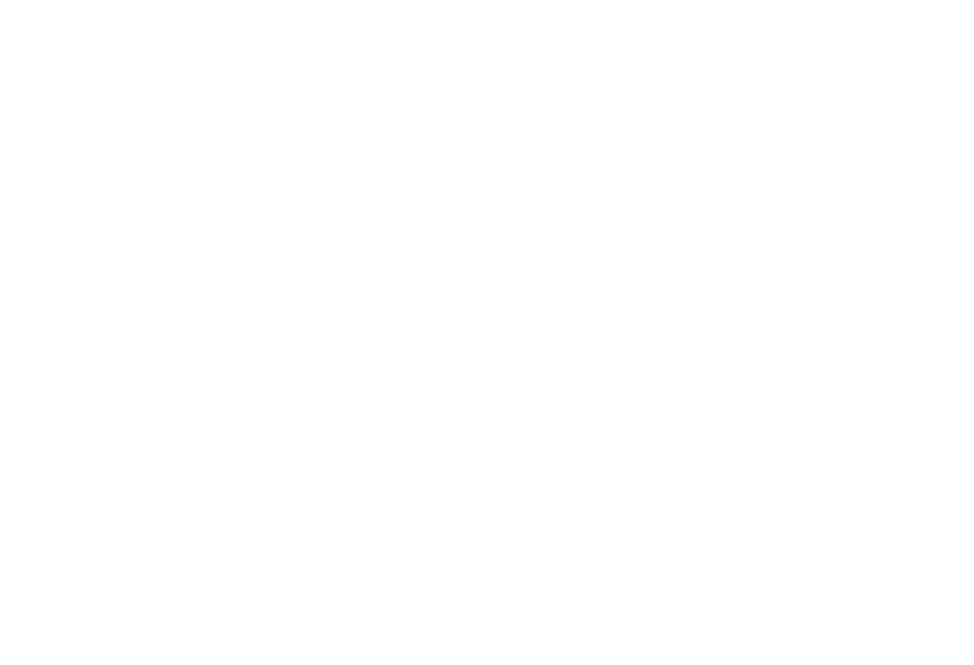
— Как вы перевели свою первую книгу? Вы же не учились на переводчика.
— Мой первый перевод — роман Германа Мелвилла «Марди и путешествие туда». Здоровенный, как Мелвилл умел. Именно Мелвилл и привел меня в перевод, потому что я собиралась писать по нему диплом — обыкновенный литературоведческий диплом, мысль о переводе мне даже в голову не могла прийти, ведь с иностранными языками у меня тогда были отношения напряженные. Научный руководитель отсоветовал мне писать про «Моби Дика» — сколько можно писать про «Моби Дика», резонно сказал мне он, — и предложил обратить внимание на «Марди» — малоизвестный, по общему мнению неудачный, не переведенный на русский язык роман, предшествовавший «Моби Дику». С идиотским энтузиазмом я распечатала всю эту махину из Интернета и принялась за «чтение».
Естественно, выяснилось, что читать я этот текст не в состоянии — даже человек, хорошо знающий язык, и тот бы коньки отбросил. Казалось бы, логичное решение — забыть про все это как про страшный сон и писать себе тихонечко диплом по «Моби Дику». Но на меня нашло какое-то умопомрачение, и я решила: раз все равно за каждым словом лезу в словарь, так отчего ж не попробовать сделать художественный перевод? Так оно все и завертелось. Стала брать уроки английского, переводила «Марди» — очень долго и очень плохо. Но гордая ходила! Всем впихивала эти свои «переводы», люди хвалили, отводя глаза. Пока наконец не познакомилась с настоящими живыми переводчиками, которые быстренько растолковали мне, что и как. Самое главное — научили делать все то, что я делать боялась: исходить из русского языка, строить фразу по-русски. Это азы — а я не знала, не решалась слово переставить в предложении. Само собой, перевод «Марди» я переписывала раз семь — после каждого подобного откровения.
— Ваша главная писательская боль.
— Я все-таки, если честно, не вполне ощущаю себя писателем, поэтому и в медицинском справочнике пока ориентируюсь не очень. Но если уж в таких терминах — пожалуй, писательская боль у меня та же, что и у всех: боль невыразимости. Очень трудно подобрать слово так, чтобы описываемое вставало потом в памяти, как живое, более того — чтобы чувство, которое тебя охватило при виде того или иного, чувство, которое ты даже и объяснить толком тогда не мог — появлялось вновь и проживалось так, как будто ты испытываешь его впервые. Набоков писал, что «память воскрешает все, кроме запахов, и зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним».Вот хочется, чтобы слова действовали, как запах, так же невесомо, необъяснимо и безошибочно.
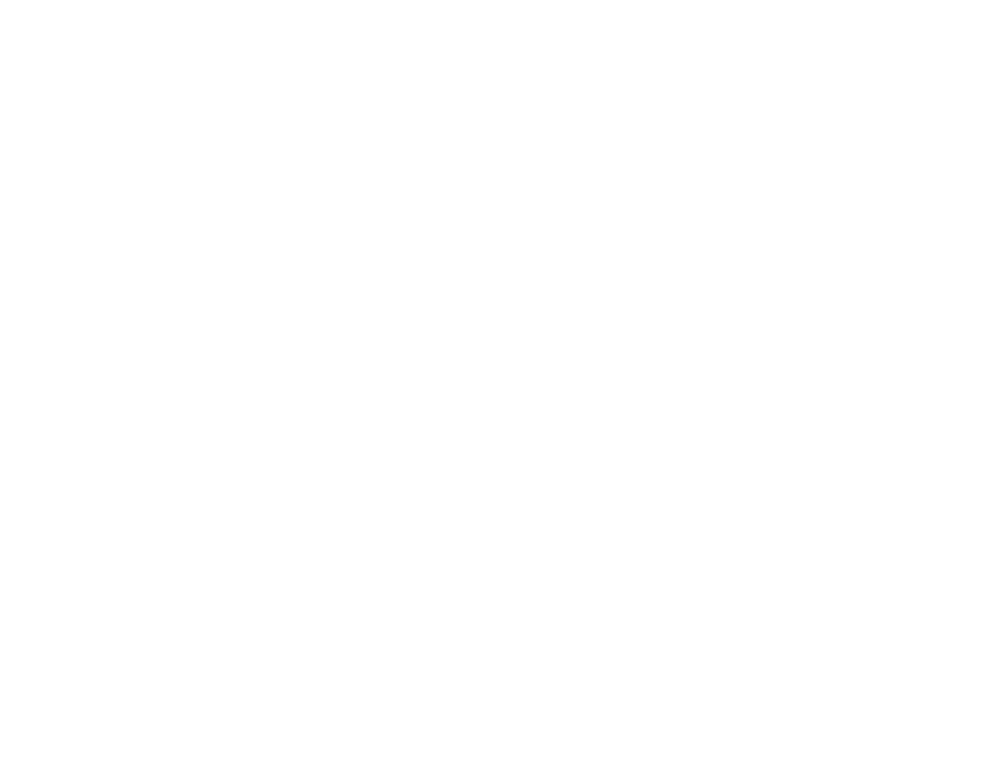

Приходите на курс «Живое слово», чтобы научить свои тексты действовать невесомо, необъяснимо и безошибочно!
Старт 30 сентября!
Старт 30 сентября!

