Марина Кочан: «Мы помним воспоминания о воспоминаниях»
В интервью Band Марина Кочан рассказала о своем становлении как писателя, инструментах автофикшн-прозы и работе горя.
Марина Кочан — преподаватель и редактор тарифа «Профи» на курсе «Автофикшн».
Анжела Малышева
Автор статьи

Поделиться
— Как вы пришли к писательству? Что помогло вам развить свои литературные способности? Можно ли вообще «научиться» писать, или талант либо есть, либо нет?
— Я в возрасте 9-11 лет начала писать книжки, причем в разных жанрах: ужастики, повести, короткие рассказы. Но тогда у меня не было понимания, что писательство может быть профессией. Даже не возникала эта мысль. Я росла в маленьком городе, в Сыктывкаре, где не было писательских кружков. Может, и были, но я про них не знала ничего. Так или иначе, я все время взаимодействовала с текстом. В университете я пошла на факультативный курс, который назывался «Проба пера». Потом я пробовала себя в тревел-журналистике, в музыкальной журналистике. При этом образование у меня было абсолютно не профильное.
— Я в возрасте 9-11 лет начала писать книжки, причем в разных жанрах: ужастики, повести, короткие рассказы. Но тогда у меня не было понимания, что писательство может быть профессией. Даже не возникала эта мысль. Я росла в маленьком городе, в Сыктывкаре, где не было писательских кружков. Может, и были, но я про них не знала ничего. Так или иначе, я все время взаимодействовала с текстом. В университете я пошла на факультативный курс, который назывался «Проба пера». Потом я пробовала себя в тревел-журналистике, в музыкальной журналистике. При этом образование у меня было абсолютно не профильное.
Подпишись и получи бесплатный мини-учебник редактора Афиши «Всё ясно. Как писать коротко, просто и увлекательно»
Я сторонник того, что научиться писать действительно можно. Можно освоить разные технические инструменты. Можно много читать и пробовать писать самому. Очень редко бывает, что есть врожденный талант. Но, конечно, он тоже важен. Важна склонность и желание писать, которое будет все время подталкивать тебя осваивать технические инструменты.
— У вас есть свое комьюнити, вы активно преподаете. Что вам дает общение с учениками?
— Да, я стала много преподавать после выхода «Хореи». Сейчас веду курс по автофикшну, и вот буквально месяц назад сделала своё комьюнити. Я очень сильно вдохновляюсь работой, то есть я не мыслю себя исключительно как писательницу. Преподавание — это огромная часть моей идентичности, не менее важная, чем писательство. Я очень люблю преподавать и очень люблю делиться своими знаниями.
При этом мне важна горизонтальность этого процесса. Я знаю, что ученики дают мне не меньше, чем я им. Мне очень нравится вместе приходить к каким-то мыслям, идеям, вместе обсуждать тексты. Это дает вдохновение писать. Например, в комьюнити у нас есть корайтинги, они меня также организуют. Я с этой целью, в том числе, создавала комьюнити, — чтобы не бросать письмо. У меня цель немножко эгоистичная даже, но я стараюсь отдавать не меньше, чем получаю.
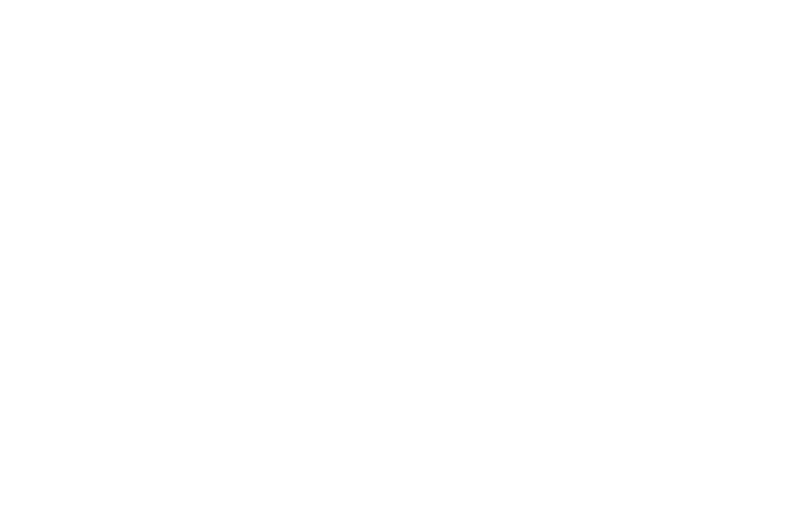
Марина Кочан — автор проекта «Что я знаю о папе», интернет-зина, посвященного воспоминаниям об отцах.

— Проект «Что я знаю о папе» — не только литературный, но и личный. Что вдохновило вас на его создание? Как он помогает вам и другим людям?
— Изначально у этого проекта и у книги «Хорея» общие корни. Через год после смерти моего папы я сделала зин, небольшую самоиздатную книжку с текстами и фотографиями, и назвала ее «Что я знаю о папе». Это была моя первая попытка отрефлексировать произошедшее. Книга была выстроена линейно, от моих детских воспоминаний и отношений с отцом до момента его болезни и смерти. И, конечно, это проект очень личный, который, однако, со временем стал публичным.
Сделав эту книжку, я увидела, насколько много к ней интереса. Мне стали писать незнакомые люди, делиться своими историями про отцов. Я поняла, что такой проект очень нужен.
Я думаю, что он помогает в первую очередь другим людям отрефлексировать свои отношения с отцами. В том числе с теми отцами, с которыми никаких отношений не было, потому что часто на месте фигуры отца находится просто пустое место или собрание недомолвок и неких лакун. Мне кажется, что проект помогает создать некий коллективный образ.
Марина Кочан — автор романа «Хорея», автофикциональной истории принятия тяжелого семейного заболевания и собственного материнства.

— Ваш роман «Хорея» — это автофикшн, но вы говорили, что в этой книге «всё и ничего» автобиографично. Расскажите о процессе смешения реальности и вымысла в вашем творчестве. Легко ли это дается? Нет ли ощущения, что выдуманное подменяет реальное в воспоминаниях?
— Это вообще довольно частый вопрос на презентациях и от моих студентов — как отстроить вымышленное и автобиографичное, возможно ли вообще это, где лежит грань между правдой и вымыслом?
Я всегда говорю о том, что память сама по себе фикциональна. И, как сказала Лидия Юкнавич, «лучшее воспоминание — это забытое воспоминание». То есть всё то, что мы помним, на самом деле фикционально само по себе, потому что мы как бы «помним воспоминания о воспоминаниях». Поэтому, на мой взгляд, даже самому автору очень сложно эти вещи разграничить.
Если брать «Хорею» как пример, то с точки зрения сюжетной и фактологичной, это, конечно, автобиографический текст. А с точки зрения достраивания сцен — здесь очень много есть вымысла, в том числе потому, что память у меня плохая, я мало что могу вспомнить детально, это скорее похоже на отдельные фотографии.
Я даю художественный домысел студентам как упражнение. Мне кажется, как раз в автофикшне это важная работа, когда мы боимся сделать шаг в сторону, сами себя останавливаем. Если я не помню — значит, здесь оставлю пробел.
Но на самом деле у нас есть разные инструменты, чтобы с этим работать. Мы можем показать сомнение прямо на письме и сказать, что я не помню, но сейчас попробую достроить. Или мы заранее не даём читателю никаких подсказок и разрешаем себе домыслить просто потому, что это наша история. Мы читаем его как роман, а значит, у нас есть такое право ради художественной ценности текста.
— Болезнь вашего отца стала ключевым элементом в «Хорее». Как вы справились с эмоциональной нагрузкой при работе над этой темой?
— Изначально, когда я писала текст, я очень многое упускала, заменяла какими-то эвфемизмами, недомолвками. На редактуре моя редакторка Юлия Петропавловская, конечно, указала мне на эти места и сказала, что нужно проделать своеобразную работу горя и залезть в самое болезненное, чтобы вспомнить, чтобы у текста появились детали. Это было сложно.
Я постепенно возвращалась туда, потому что очень много память стерла ввиду травматичности воспоминаний. Мне нужно было, например, вспомнить, как отец не мог донести ложку до рта, когда уже был больным. Мне казалось, что я такие вещи забыла, но постепенно, через сеттинг, через достраивание пространства комнаты или кухни, мне удавалось все-таки вернуться. Я всегда говорю авторам, которые работают с такими сложными темами, что, конечно, хорошо бы сначала сходить в терапию, все это проработать, а потом уже писать текст. Иначе может случиться ретравматизация.
— Какие книги или авторы оказали на вас наибольшее влияние во время работы над «Хореей» и почему?
— Когда я начинала писать «Хорею», жанр автофикшн только-только пришел в Россию и стал набирать популярность. В 2020-2021 году появился роман Оксаны Васякиной «Рана», и это было абсолютно новое высказывание в российском поле и с точки зрения жанра, и с точки зрения языка. Конечно же, я тогда прочла этот роман, и он оказал на меня большое влияние.
Еще один текст — это роман Кио Маклир «Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений». Он дал мне хорошее понимание того, как может быть устроена рамка, как эссе может пересекаться с художественным нарративом. С ним у меня случилось ещё пересечение с точки зрения темы, потому что Маклир рефлексирует болезнь своего отца, и птицы служат для неё способом пережить тяжёлые моменты. Я эту книгу очень сильно люблю, всем всегда рекомендую. Несколько раз ее перечитывала. Сейчас вышел уже второй роман у Маклир, который по-английски называется «Раскопки», на русский его перевели как «Корни». И он нравится мне не меньше, чем первый текст.
— В вашем творчестве часто затрагиваются темы семьи и личных переживаний. Как вы балансируете между личной жизнью и творческой работой?
— Я действительно стараюсь уловить этот баланс. У меня есть список моей рутины, которую я стараюсь соблюдать, и в этом списке есть и рутина письма, и рутина работы с проектами, а проектов у меня очень много. Я недавно посчитала, что у меня 10 разных проектов, с которыми я более-менее одновременно всегда работаю. Это и преподавание, и нон-фикшн-книга о поэзии и искусстве XX века, и работа со вторым романом, и комьюнити, и еще всякие оффлайн-штуки в Белграде, например, писательский лагерь для взрослых.
Но я не меньше внимания уделяю семье и самой себе, потому что знаю, насколько легко можно выгореть, особенно от той работы, которую ты любишь, которой готов заниматься часами. Поэтому я параллельно стараюсь еще гулять со своим мужем и сыном, ездить в маленькие путешествия и просто ловить моменты, которые и составляют ткань жизни.
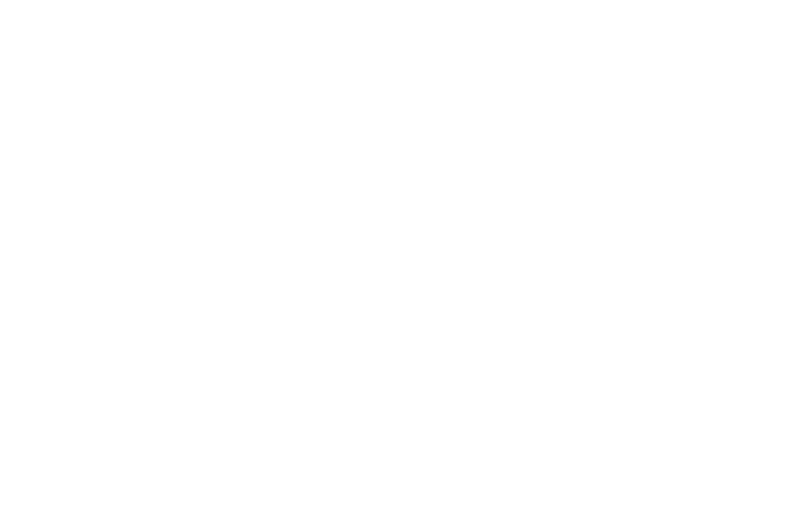
— Ваши планы на будущее — есть ли у вас идеи для новых книг или проектов, которые вы хотели бы реализовать?
— Да, у меня есть уже не только идея для новой книги, но и довольно большой написанный объем, около 100 страниц. Но работа с ней движется очень медленно, поскольку, в отличие от «Хореи», здесь нужен более широкий первоначальный ресерч. Она сложнее структурно. Есть линия, с которой нужно много работать, потому что это не моя линия, я не была свидетелем того времени. Поэтому для меня это уход в усложнение.
Второй проект — это книга, которую я уже упомянула, по искусству и поэзии XX века с разными заданиями. Это книга, которая охватила мой опыт работы преподавателем для детей и взрослых в течение примерно пяти лет. Надеюсь, что она уже очень скоро выйдет.
